Константин Латыфич (Самара)
СЛОВО В ТОЧКЕ СБОРКИ. О КНИГЕ СТИХОВ
ГРИГОРИЯ МАРГОВСКОГО "К ВАМ С ИГРОЙ - ИГРОЙ ИГР"
I
"К вам с игрой - игрой игр". Так называется книга стихов Григория Марговского. Первое же знакомство с ней заставляет насторожиться. С одной стороны - явная аллюзия на построения голландского философа Хейзинги и его теорию человека-играющего, а с другой, если прочитать открывающее книгу стихотворение "Введение в игру", - созданный в соответствии со всеми классическим канонами текст:
Кто в "Одиссее" обнаружил вкладыш,
У стеллажа, вскарабкавшись на стул,
И, теребя давно засохший ландыш,
Страницы резко не перелистнул…
Поначалу ощущаешь некий конфликт восприятия. Трудности
с идентификацией. С чем же мы все-таки будем иметь дело, читая эту книгу?
С веселыми постмодернистскими играми в литературу или же, учитывая что
в названии за "играми игр" стоит еще одна Игра, нам предстоит
распознать именно её правила?
Поэзия канона и поэзия игры, пожалуй, два магистральных направления в
современной литературе, особенно явно обозначившиеся в последнее время.
Споры "западников" и "почвенников" потеряли всякий
смысл, поскольку в мире массовых коммуникаций, больших скоростей и глобальных
рынков почти невозможно уяснить - где же находится точка отсчета, если
искать её сугубо географическими методами. Все пришло в движение. Запад
сливается с Востоком, Север - с Югом. Одним словом, когда: Не просто век
антиутопии/ кромешный сюр на всей земле - истина не может больше оцениваться
по признаку места. И в этом контексте на хрестоматийный вопрос: "Что
делать?" у современных авторов, похоже, существует лишь два варианта
ответа. Концепуталисты 90-х, отвечая на него, сделали ставку исключительно
на "игру в бисер" с культурными кодами и смыслами, изначально
не признавая при этом ничего подлинного. Похоже, что они проиграли, поскольку
число возможных комбинаций оказалось ограниченным. После их опытов, речь,
по сути, зашла о дальнейшем существовании поэзии как таковой. Если все
культурные аллюзии потеряли свои основания, а игровые практики исчерпаны,
то можно ли вообще писать стихи? Читая книгу Григория Марговского - понимаешь,
что можно. Если только отдавать себе отчет, что за "игрою игр"
существует еще одна Игра. Читай - канон, закон (можно и с большой буквы),
который и проверяет на подлинность каждого игрока. Как раз об этом следующие
строки "Введения в игру":
И кто хоть раз для интереса вынул,
В соцветьях барбариса не дыша,
Тонюсенького стебля сердцевину,
Как желтый грифель от карандаша,
Тот и сегодня на поверку чуть ли
Не в тех же играх признанный мастак
И ведомо ему, сколь мир причудлив,
И слава Б-гу если это так.
Речь идет ни много, ни мало "о сердцевине", о некоем средоточии,
позволяющем человеку обрести себя, став мастаком "в тех же играх",
что были доступны и греческому философу, и византийскому исихасту. Т.е.
о попытке обрести ощущение многообразия Бытия, полноценно воспринимая,
ощущая и ландыш, и творение Гомера. О возможности понять истинное соотношение
между рукотворным и нерукотворным. Найти гармонию между словом и вещью.
В связи с "сердцевиной стебля" Григория Марговского вспоминается
и мандельштамовское:
Заставит сон и смерть минуя
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную
(О.Э.Мандельштам 1937 год)
Чтобы миновать смерть, - говорит нам Мандельштам, - остаться, живым нужно
услышать ось - понять Замысел. Мировая культура знает опыт его постижения.
Вспомним о нем.
Я шел назад, священною волной
Воссоздан так, как жизненная сила
Живит растенья зеленью живой.
(Данте Алигьери "Чистилище", Песнь 33, пер. М. Лозинского)
"Воссоздан" - ключевое слово, едва ли, не для всего дантовского космоса. Весь путь великого флорентийца был пройден только для того, чтобы герой смог стать живым. Пересоздать, обрести себя заново. Не это ли, учитывая, что недавние "игры в бисер" завершены, и есть задача для новой поэтики? Любопытно, что стихотворение о Данте расположено практически в начале книги Марговского:
О, звездочёт, скажи: ужель
За пеленою слезной дыма
Солнцестояния модель
К изгнанникам неприменима?
И разве точность нам дана
Трагическая не в награду
За отлученье от вина,
Доставшееся вертограду?
("Данте")
А перед этим - не менее красноречивые строки, также отсылающие читателя к великому странствию.
...Что вещий слух к заимствованным гимнам
С беспечною отнесся теплотой.
Покойся, Памф, и не кручинься, Олен,-
Пускай цикады сладостно поют;
Да будет первозвестникам раздолен
Поросший асфоделями приют.
("Как распознать - когда они уже немы")
И сразу же после этого стихотворения и стихотворения о Данте - тема воссоздания:
Я Рембрандта по косточкам собрал,
По ребрышкам, и света не прибавил...
И далее:
...На паперти бесчувственного мира
Донесся с Валтасарова он пира -
Театр анатомический объял".
("Рембрандт").
Вот этот триптих и задает главную тему, которая все отчетливее проявляется, с каждым новым прочитанным стихотворением:
Завьюжье - как зеркала тыльная муть
С царапиной на амальгаме,
Торопятся в тёмную воду нырнуть
Озябшие звёзды мальками.
Но чье то там сердчишко, светясь глубиной,
Скользит плавниками по льдистым
Бревенчатым срубам избы лубяной
Где месяц - залетным альтистом?
("Завьюжье")
II
Само название книги "К вам с игрой - игрой игр"
- анаграмма имени и фамилии автора. Если читать только лишь его, то человек
воспринимается как разъятый на части. Растворенный в кубиках силлогизмов.
Цельность отсутствует. Но она возможна, поскольку, напомню:
...ужель
За пеленою слезной дыма
Солнцестояния модель
К изгнанникам неприменима?
Вот эта самая точка солнцестояния и есть место встречи (не вспомнить ли нам в этой связи и Макса Шелера?) - та самая "точка сборки", потенциальная возможность воссоздания человека, которая проглядывает из- за слёзной пелены изгнания - отчуждения. И тогда распавшийся на части мир и человек снова собираются заново:
То ли первый звонок, то ли страх громового раската?
Возвращается образ к прообразу, сколь мы ни ропщем.
Только б связь не была между миром и мыслью разъята
Прахом шара земного и школьного глобуса общим!
Человек - этот чёрствый ломоть задушевного хлеба, -
Он таит в себе тминную искру затмившейся нивы:
И хоть разум его - повелитель янтарного склепа,
Виноградные усики сердца его прихотливы!
("Древовиден ветвистый хитин рогачей-короедов...")
Строка: "Только б связь не была между миром и мыслью разъята / Прахом шара земного и школьного глобуса общим" - показательна для Марговского и едва ли не самая сильная в книге. Связь времен, культур и пространств восстановима, если над "игрой игр" зашифрованных в анаграмме имени и фамилии - читай судьбы - признается закон более высокого порядка. В противном случае:
То ли партия не удалась,
То ли белые пятна
Разъедали следимую связь
Чересчур безвозвратно,
Но в период меж двух мировых
Проницательным венцам
Так взалкалось удара под дых,
Что разверзся Освенцим.
Освенцим разверзается для каждого:
Кто любви отрезает пути,
Тот себя не услышал.
Потому что:
В вычисленьях спасения нет,
Мир запутался в играх.
Из-за тучи блеснет то ли зет,
То ли икс, то ли игрек…
("Игра игр")
Мир действительно запутался в игровых схемах. Икс и игрек на небесах почти неразличимы. Что же поможет развязать узлы, прочитать зашифрованные анаграммы, распознать знаки собственной судьбы?
Так на лугу друидов знак
Выводится писцом взошедшим
Полуденных июньских саг,
Витающих над Стоунхенджем.
("Данте")
Читая книгу Марговского, понимаешь, что автору присущи два качества: внимательность и сосредоточенность. Концептуализм их не знал, спасаясь от несовершенства мира - иронией, и пряча взор за лозунгом о всеобщей не-подлинности. Поэтика Марговского - напротив - поэтика прямого взгляда, который направлен исключительно на вещь. Добрая половина стихов имеет вполне конкретное название, а сами они повествуют о реальных событиях, явлениях или персонажах: "Гамлет", "Офелия", "Диоген Лаэрций". Поэтому путь от вещи к Логосу у Григория - на удивление короткий. И это, на мой, взгляд, еще одно достоинство автора:
Под гром метафор сводка биржевая
Мигает, как пугливый семафор:
Из амфоры ты, губ не разжимая,
Пьешь замысел - и мчишь во весь опор.
("Стихи, сочинённые в подземке").
Или вот - реактивный переход от зримого к неявному :
Завитушки над каждою буквой - как пламя свечное,
Преклоненное вздохом Г-сподним... Вовеки иврит
Не осилить мне, пасынку. Нет бы - родиться при Ное
И услышать, как мир на одном языке говорит...
Исхудав от Исхода, простынкой укроюсь: колено
Полусогнутое возвышается меж пирамид.
А всего их двенадцать, бежавших плебейства и плена.
Этот саван песчаный для рабства историей сшит.
Лампа света дневного подрагивает от накала -
Точно бабочка бьется, зажатая в чьей-то руке.
Лишь две тысячи лет отделяют итог от начала,
Но уж всякий из нас говорит на своем языке.
Отсюда и это поистине "баратынское" внимание к прилагательным
- лучшая проверка на поэтическую доблесть. Каждое - функционально, и говорит
нам о действии, а не служит лишь орнаментом, бесполезной лепниной на фасаде
стиха:
Право, совестно с ужимками гномьими
Подражательно жонглировать вам
Чудо-сферами - как серыми комьями -
По мелованного полдня полям!
Вы уж лучше об ином позаботьтесь-ка -
Чтобы, собственным лучом опален,
Серафическое эхо от оттиска
Разучился отличать Аполлон;
Чтобы, гаммою созвучий негромкою,
Будто геммою, впечатана в синь,
Вязь арабская прорезалась кромкою
Первооблака - дразня клавесин!"
(На гравюру "Гармония мира"
из трактата Франкино Гафурио
"Практика музыки" (Милан, 1498))
И кто сказал, что в мире персональных компьютеров невозможна метафизика:
Многостаночный свой лэп-топ
Захлопываю крышкой - хлоп, -
Но эту шелковую нитку
Навстречу горнему лучу
В уме по-прежнему сучу,
Не зная чт? в итоге вытку.
("Язык программирования")
Двоичный код, оказывается, вполне может быть преобразован
в горний луч, подчиняя каждое сказанное слово правилам Игры, которая,
"пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит", не прерывается.
опубликовано в журнале "Крещатик" (№3, 2010 г.)
Анатолий Добрович (Бат-Ям, Израиль)
НЕСКОЛЬКО СТРОК О ПОЭЗИИ ГРИГОРИЯ МАРГОВСКОГО
Беспрецедентный версификационный дар
Речь в стихах льется у него так естественно, словно
это обыденный (привычный) способ говорения. Делает ли он это «озверев
от помарок», или являет собой инструмент, сам по себе обращающий струю
воздуха в мелодический поток, - вообще говоря, не наша забота. Впрочем,
ухо, умеющее отличить импровизацию (например, джазовую) от заготовленного
исполнительского кунштюка, улавливает именно спонтанность стихового самовыражения.
Как и во всем спонтанном, здесь типичны не вполне совершенные эпизоды,
но они почти всегда компенсируются последующим всплеском реализованных
возможностей.
Рифма Г. Марговского может стать (и уверен, станет) предметом специального
стиховедческого исследования. Кажется, нет такого русского – либо иноязычного,
но употребительного, поддающегося употреблению в русском языке – слова,
к которому поэт не отыскал бы яркую, неожиданную рифму. Временами кажется,
что он охвачен азартом такого поиска: специально вертит в пальцах «нерифмуемое»,
чтобы зарифмовать. Но это не формалистические игры. На самом деле, он
предельно чуток к музыке слова и слога. Благодаря этому, распознаёт мелодическое
сродство между речевыми единицами, не имеющими ни малейшего смыслового
сопряжения. А далее – находит им такое сопряжение в развертывающемся стиховом
тексте. Это можно было бы назвать поэтическим «трюком», но занижать суть
дела экстрадно-цирковой аналогией, право, не стоит: подобное «трюкачество»
составляет один из секретов обаяния величайших русских поэтов, особенно
в ХХ в.
Словом, версификационный поток Г. Марговского – это особый феномен, привлекающий
внимание независимо от того, каков поток сознания поэта, или, иначе, -
от того, на каком предмете фокусируется его мысль от произведения к произведению.
Непривычно широкий словарь
Словарь Г. Марговского уникален. Он вовлекает в себя
все речевые накопления, связанные с биографией поэта. В нем запечатлелись
и Беларусь, и Россия, и Израиль, и США. Высокая русская литература и современный
сленг. Англицизмы, идишизмы и гебраизмы. Аналитический стиль, просторечия
и треп «пофигиста». Я уверен, что это делается не модного палимпсеста
ради. «Токмо» ради соответствия самому себе – такому, как есть. Автор
стихов не придает своей персоне исключительного значения – напротив, постоянно
колеблется в самооценке. Тут вопрос правды. Мастер такого уровня мог бы
подать себя как угодно. Например, записаться в классики или выступить
радикалом-новатором. Не хочет. Не этого ему надо.
В основе его словаря - нечастая в наше время филолого-историческая культура.
Учил ли он древнегреческий и латынь, не знаю, но в персонажах и событиях
античности он ориентируется, как дома: дышит «родным» воздухом. Его аллюзии
на этот пласт культуры выглядят непроизвольными. Это вовсе не стремление
«образованность показать», а внутренняя связь сочинителя с мифами и реалиями
древности. А также средневековья. А также современности.
У этого поэта особый склад памяти, свойственный историкам по призванию.
Детали, даты и имена, которые нами забываются («после сдачи экзамена»),
у него становятся частью тезауруса и движителями мышления. Иудейский и
израильский опыт вовлекает его в мифологию Каббалы, что не препятствует
его влечению к музам Аполлона. Еврейская интонация не противоречит у него
стиху первоклассной российской «выдержки».
Люди, набитые знаниями, не редкость – особенно, может быть, в еврейском
мире (мудрец-трубочист или философ-сапожник - традиционный национальный
тип). Редкость в другом: обладатель знаний в данном случае не хочет быть
академичным, носить знаки избранности. Он, выражаясь по-нынешнему, ценит
«отвязанность». Пускается во все тяжкие, дрейфует по жизни, меняет ситуации,
партнерш, друзей, занятия, познал вкус греха, кайф наркотика, тяготы подневольного
труда и нищенского прозябания. Он, дойдя до зрелого возраста, житейски
«не устроен». Устроился бы, если бы пожертвовал независимостью. Всего-то
и надо было - притвориться, перетерпеть унижение, свыкнуться с чьей-то
тупостью, чьим-то самодовольством. Давно попал бы в «элиту»: если не в
израильскую (тесно, душно), то в американскую. У него, однако, свои представления
об элитарности. Откройте издаваемый им в Бостоне сетевой журнал «Флейта
Евтерпы», - поймете, что к чему.
И вся эта разнородность интеллектуального и эмоционального опыта становится
у Г. Марговского разливанным морем его лексикона. Пусть пуристы негодуют.
Пусть стилисты морщатся. «Живет такой парень». И пишет, как живет.
Сущностный посыл, с первого взгляда, невнятен. Потом…
А зачем, собственно, пишет? Что имеет сказать?
Я пойму его, если он, вместо ответа, пожмет плечами. Спросите у композитора,
о чем его музыка. То, «о чем» она, выражено в ней самой. Нравится она
вам или нет, это уже ваше дело. Должен признаться: тексты Г. Марговского
нравятся мне не всегда. Я, читатель и автор стихов, располагаю некой внутренней
матрицей для восприятия русской поэзии, и эту матрицу сформировали, если
подумать, восьмеро. Пушкин, Баратынский, Тютчев, Пастернак, Заболоцкий,
Ходасевич, Мандельштам, Бродский. Для меня они - пришельцы из Космоса.
Все прочие, как бы я их ни любил и ни превозносил, «не мои люди». Правомерно
ли ставить вопрос о том, укладывается ли Марговский в эту матрицу?
Ладно, сам я не укладываюсь (дарование не то), хотя стремился к этому
всю жизнь, действительно «оказавшуюся длинной». А гляди-ка, в Марговском
мне недостаёт «духовной значительности». Как если бы парусник поэта мотало
по морю меняющимся ветром. Каков порт назначения? Ради чего пишется?Он,
видимо, не может не писать (как птица - не свистеть), а я по привычке
ищу у него возвышенный «повод» для писания: тот внутренний мотив творческой
акции, от которого волосы шевелятся. Как бывает при слушании Бетховена
или Рахманинова. Если, мол, нет такого мотива, лучше промолчать. И что?
Заявить поэту «помалкивай, пока не накатило так, что вскричишь»? Во-первых,
кто я такой, чтобы ему указывать. Во-вторых, многие как раз скажут о нем
«мой человек», основываясь на какой-нибудь другой матрице стиховосприятия.
А главное – в-третьих.
А именно: вдруг поэт как раз избегает того, что у меня идет за «духовную
значительность»? Мы живем в беспафосную эпоху; человек – всего лишь человек,
он является к нам не из Космоса, а, скажем, с пляжа. Главное, что он приносит
оттуда, кроме песка в сандалиях. Григорий Марговский, возможно, лучше
меня знает, как трудно быть по-настоящему «значительным» и как легко таковым
прикидываться. Он адресуется к современнику, а тому давно уже лапшу на
уши не навесишь.
Он пишет потому, что стихи для него – одна из эманаций собственного бытия.
Как секс. Как интеллектуальные увлечения. Как поиск и утрата веры. Как
дружеское застолье. Как необходимость прикинуть, где заработать бабки.
Он, как и его читатель (а это избранный читатель), избегает мира «попсы»:
затошнило. Он приходит с пляжа, выхватив из бензинных волн, из смешанных
со смогом облаков, из то прекрасных, то отвратительных тел купальщиц и
купальщиков, – вычесав из всего этого воздушные волокна вдохновения и
нетривиальной умственной игры. На уровне слова, символа, на уровне культуральных
реминисценций и поэтических неожиданностей сама жизнь, говорит он, становится
неотличимой от игры в жизнь. Вслед за Г. Гессе и Х. Л. Борхесом, обращавшихся
к прежнему поколению, он напоминает мыслящему сверстнику о том, что при
любом повороте судьбы мы сохраняем возможность ловить и перебирать знаки
- отсветы вневременных впечатлений от бытия. Складывать их в неожиданные
конфигурации, рекомбинировать. Сплетать из них венки и пускать эти венки
по водам – как Экклезиаст призывал отпускать по водам хлеб свой, «потому
что по прошествии многих дней опять найдешь его».
Как не найти. Пока существует поэзия.
Только что сказанное можно выразить и в сжатой (конспективной)
форме. Например, так.
Беспрецедентный версификационный дар
опирается у Марговского
на непривычно широкий словарь,
чья основа – редкая ныне филолого-историческая культура.
Сущностный посыл, с первого взгляда, невнятен,
как если бы парусник поэта мотало по морю меняющимся ветром:
каков порт назначения? ради чего пишется? Потом
догадываешься: ради письма
как эманации существования. Жизнь и игра в жизнь
неотличимы на уровне слова, символа.
Жить под неволей, под анашой, под звездами, под лопухами,
жить над озером, над борделем, над узлом железной дороги -
можно: перебирая знаки - отсветы вневременных впечатлений
от бытия. Связывать знаки в венки, пускать их по водам.
Они вернутся.
опубликовано в нью-йоркском журнале "Слово/Word" (№61, 2009 г.)
Ольга Пахомова (Москва)
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ГРИГОРИЯ МАРГОВСКОГО
"К ВАМ С ИГРОЙ - ИГРОЙ ИГР"
Ты - человечества частица,
И блеск его сберечь изволь...
Григорий Марговский
Писать о стихах русского поэта-эмигранта, досконально изучившего обычаи племени апатридов, сложно. Но дело это благое уже потому, что нашему читателю давно уже пора глотнуть воздуха Поэзии и отдать должное таланту человека, мало сказать, с непростой судьбой, а с той, что и позволила - как ни парадоксально - этот талант приумножить. Такая поэзия по определению исповедальна, поэтому исследовать творческий путь поэта - не наша задача. Наша задача услышать, как мощно звучит гражданская нота у поэта, покинувшего родину после развала Союза, перекати-полем блуждавшего в поисках своего пристанища на земле, укоренившегося в чужой почве, но, главное, оставшегося верным родному языку. Рядом с Григорием Марговским трудно кого-либо поставить: настолько твёрд и индивидуален его почерк, данный ему от природы, и, безусловно, оттачиваемый в собственной мастерской, где незримо присутствуют и философские трактаты, и древние памятники письменности, и томики любимых поэтов. Чем нам оправдаться, современники, поэты и критики, что это имя до сих пор мало известно читателю? Неужели пресловутый пиар - залог всенародной любви, которой великий Пушкин призывал поэта не дорожить? В этих стихах вы не найдёте джентльменского набора лубочной ностальгии. Беспристрастный взгляд поэта себе в глаза вынуждает нас ему верить:
…Горько мне, что столько плодоносил
Дар мой от отечества вдали,
Что не с теми я, кто горсть земли
В светозарную могилу бросил…
("Реквием")
Приехали - и ладно. Только ноги б
о нас пореже вытирали здесь!
("Илья Зерцалин")
Искушенного в поэзии читателя, взявшего в руки эту книгу, ждет удивление самого высокого порядка: как же мастерски использует автор вербальные средства для возвеличивания, никак не меньше, и обогащения поэтического языка? Где в своем сердце он угрел эти исконные, почти стертые из нашего сознания слова, буквально вернув языку его геральдику, добавив знаки времен и народов, столь органично вписавшиеся в повествование. Из чего возникает эта фонетическая игра, "перестановка букв", парадоксальная перестановка смыслов, торящая чудные "тропы" сквозь освоенные пространства поэтических версификаций? Григорий Марговский… не тот ли он хранитель генного наречия и некоего душевного вещества, без которого и нет человека?
Затем и человек, чтоб замечать -
Глотая слезы и латая дыры -
Как немощны мечты, как звезды сиры,
Когда на них безликости печать…
("Затем и человек, чтоб замечать…")
Рифмы, эти контрапункты поэзии, у Григория Марговского редкостны и стоят того, чтобы посвятить одним им только исследование. Это сотворчество с языком, возрождение его традиций, изобретательство и словесная комбинаторика, тяготеющая к научным лингвистическим изысканиям. Это, в конце концов, напоминание о сужении нашего угла зрения на собственный язык, в котором неисчислимое множество лексем, о которых мы и не ведаем, но благодаря поэту они начинают жить, как только по его, дарованному ему свыше, произволению встретятся с долгожданным суффиксом или окончанием. И все эти "соприродные" языку ассонансы и аллитерации просто обязаны угнездиться в нашем с вами языке, потому как всё более заметно: мелеет река русской словесности, мельчает речь даже культурного, по нынешним меркам, человека. И в этом смысле поэт: творец языка своего народа, его охранитель, если хотите, пожизненный его опекун. Как же сладостно повторять эти созвучия и удивительно точные, тончайшие и чуткие фонемы, радуясь уникальному музыкальному слуху поэта. Увидеть сородственность слов, сотворить метафорическую феерию звуков и смыслов, зазвать читателя так, чтобы он оказался внутри стихотворения и увидел мир глазами автора, буквально стал им - один из признаков подлинности в искусстве:
Смотри во все глаза на свет, что вдалеке,
Но ближняя деталь - прозренью не помеха:
Перловая крупа - ей сделали "перке",
Внутри какой-то герб у грецкого ореха...
Предчувствием томим то войн, то катастроф,
Я много упустил прекрасного, живого.
Что толку горевать? Я ко всему готов.
Теперь я одинок в последнем смысле слова.
Орехов наколю, перловки отварю.
Подробности твои, вселенная, отрадны.
Да сменит Б-жий мир затменье на зарю!
Да служит Млечный путь нам нитью Ариадны!..
(Наблюдательность)
Основополагающими свойствами поэтики Григория Марговского
являются сюжетность, притчевая глубина и пристальность к детали. Поэту
дано запечатлеть щедро рассыпанные Творцом приметы природы, узнаваемые
подчас в какой-то малости, которая на самом деле вовсе и не малость, а
голографический сколок общей картины мира. Таковы стихотворения "Рига",
"Суховеи", "Бостонское чаепитие" (на последнее сам
Бродский облизнулся бы!).
Что делает поэзию поэзией? Кроме прочего афористичность, удачный заключительный аккорд стихотворения. В слове "кода" зашифровано и еще одно понятие "код". Тот неповторимый смысл, который оказывается в финале стихотворения сродни откровению ("Торговец", "Памяти композитора", "Древовиден ветвистый хитин рогачей-короедов…", "Перестановка букв", "Реквием"). И тут происходит чудо: целое стихотворение превращается не просто в развернутую метафору, а поднимается на тот уровень, который и ставит в один ряд поэта и философа:
Завитушки над каждою буквой - как пламя свечное,
Преклоненное вздохом Г-сподним… Вовеки иврит
Не осилить мне, пасынку. Нет бы - родиться при Ное
И услышать, как мир на одном языке говорит!
Исхудав от Исхода, простынкой укроюсь: колено
Полусогнутое возвышается средь пирамид;
А всего их двенадцать - бежавших плебейства и плена,
Этот саван песчаный для рабства историей сшит!
Лампа света дневного подрагивает от накала:
Точно бабочка бьется, зажатая в чьей-то руке...
О, душа, ты две тысячи лет избавленья алкала:
Так о чем же бормочешь теперь на чужом языке?
Листая сборники современных авторов, ловишь себя на
мысли, что это писал один и тот же человек, пусть и в разные периоды своей
жизни или увлечения направлениями поэтических школ. Как не хватает современному
стихотворцу отстраненности от себя, как всё чаще впадает он в банальную
рефлексию на "вечные" темы. А где же поэтическая живопись, исторические
полотна, эпика, требующая долгого дыхания? Григорий Марговский, осмысливая
себя во временном потоке, смело сопрягает разные эпохи и тем самым, как
это ни рискованно звучит, оставляет на них свой след ("Данте",
"Рембрандт", "Диоген Лаэрций", "Гамлет",
"Офелия").
И в этом смысле поэма "Илья Зерцалин" - поистине
фундаментальный труд. Читатель, перелопатив с огромной пользой для себя
сноски к этой выдающейся (с исторической, этнографической и гражданственной
позиций) вещи, начинает осознавать, что перед ним не просто поэт-современник,
а ходячая энциклопедия, не только русской жизни, а вообще всякой-разной.
И тогда становится понятна боль, относящаяся не только к эмиграции в другую
страну и культуру, но и эмиграции, если можно так выразиться, вселенско-пустынножительской,
эмиграции в себя, одиночества, схожего с затворничеством.
О виртуозности эпической формы Григория Марговского можно говорить долго.
Но хочется привлечь внимание читателя к не менее виртуозному содержанию!
Энциклопедизм поэта (но не поэтическое кредо) неброского "бродского
типа". И если сегодня многие поэты слепо ведутся на открытую и незапатентованную
Бродским манеру стихосложения, слепо копируют форму со всякими переносами
на следующую строку и множеством соподчинений в одной строфе, то это как
раз и является эпигонством. А когда видно влияние Бродского-энциклопедиста
на творчество конкретного поэта, каким является Григорий Марговский, то
его в эпигонстве даже не заподозришь. Потому что подражать эрудиции невозможно:
она индивидуальна, как опыт, как набор хромосом. Под эрудицией здесь подразумевается
определённый уровень культуры, но отнюдь не склад знаний-файлов в черепной
коробке. Отрадно будет, если читатель, далекий от академизма и с пониманием,
унесённой с ветром девятнадцатого века, культурной традиции, с неким корыстным
интересом расширения кругозора, дочитает поэму до конца. Читают-то с этой
целью многие… Понимают - единицы. Потому что до такого органичного уровня
соединения разновременных лексических структур, как то: церковнославянизмы,
латынь, еврейский слог, сленг ранней эмиграции, поздней, подняться сложно.
Но при желании можно.
…зане у новгородских загогулин
прорезался ветхозаветный глас;
да и латиница - от семисвечья
вся фитилями литер запылав -
сулила инквизиторам увечья
и царствам предрекала переплав…
В этой связи вспоминается Сигизмунд Кржижановский (1887-1950),
редчайший эрудит, писатель и прозорливец, поэт от прозы и т.д. В свое
время его назвали "прозёванный гений". В начале девяностых прошлого
века был культурный всплеск с неплохой амплитудой: время самиздата кончилось.
Его стали печатать и почитывать… Но и не более. Он так и остался прозёванным.
И хоть в 2003 году издали его пятитомник, этот умница остался-таки косно
элитарен... Он страдал при жизни от непризнанности и удушливой атмосферы
невежества. Но и сегодня читатель ещё больше отброшен от культурного наследия
С. Кржижановского. Отброшен уже и не по своей воле, а в силу антикультурных
тенденций в обществе: хорошая литература пылится на полках, среднему читателю
напрягаться лень, да и не особо блещет он образованием. Выхолощенные уроки
литературы и переписанной многажды истории, бестселлеры, превращённые
в валовой продукт для захолустной деревни. На полках наших сельских магазинов
некогда лежали ровными рядками буханки угольного хлеба и строем стояли
бутылки водки. Остальное народ производил сам, тем и кормился. Пусть это
жёсткая аналогия, но что касается духовной пищи, то книг, насыщающих наподобие
этих буханок и расслабляющего напитка… сегодня превеликое множество. Добавились
разве что рекламные глянцевые журналы, чтобы читатель не забыл вовсе азбуки,
а картинки приближали бы его к скоростному впадению в адаптированный мир
"прекрасного детства". Если вспомнить Пера Валё с его "Гибелью
31-го отдела", то мир это уже однажды проходил… Настала наша с Вами
очередь? Или у нас, читатель, есть выбор?
Есть! Сценическое действо поэмы "Илья Зерцалин" затрагивает все сферы бытия эмигранта, дает, пусть спорный, взгляд на Израиль и его уходящие в глубь истории проблемы, но снабженная таким обилием сносок, имеет несомненную историческую и историографическую ценность. При этом у Григория Марговского не получается "втиснуть" историю в стихотворные строки. Она (история) ложится у него на поэзию, как на музыку. Да и стихи сами наглядно демонстрируют всё вышесказанное особенно тем, кто хоть что-то знает из того, что поэт дает в многочисленных сносках.
Поочередно молча мы, ни вздоха,
как в торичеллиевой пустоте,
корпели средь новелл Захер-Мазоха,
тыняновских и ждановских статей...
Мадам Блаватская своей доктриной
здесь налегла на краковский гроссбух,
карманный справочник по эндокринной
системе щитовидкою разбух,
в энциклопедии наукоемкой
эпохи Щорса властвовал жучок,
и Бендер бредил золотой каемкой:
не переплет - а клубный пиджачок!
Ситуация с прочтением, не только интеллектуальным, такой
поэзии, осложняется еще и знанием законов орфоэпики, топонимии, других
языков, истории, философии. Всё упирается исключительно в эрудицию читателя.
А это задача непростая, хорошо бы прочесть эти стихи вслух, и, может быть,
тогда он насладится вкусом этих слов, подогнанных друг к другу удивительно
точно: зазоров-то почти и не видно, как на фонетическом уровне, так и
на эстетическом...
Поэзия Григория Марговского, безусловно, дар любви ко всякой детали многосущностной жизни, без коей всё рассыплется и обратится во прах. Отсюда и проистекает радость читателя от сопереживания, узнавания, приятия. Много ли это? Вклад любого художника в сокровищницу культуры оценивается не сразу. Такая у нас, увы, сложилась в последнее время тенденция: в упор не видеть талант, а потом скорбеть о нём, как только его носитель покидает сей мир, и собирать вечера памяти, произносить панегирики, писать эссе и статьи. Но есть надежда на то, что те, кто сейчас читает эти строки вдруг да спохватятся: а ведь мы тоже творцы и соглядатаи этого чуда по имени "жизнь", да выразить вот так не можем. И тогда приходит пианист, откидывает фалды фрака, садится и опускает тонкие нервные пальцы на желтоватые клавиши старого рояля. И зал замирает.
Опубликовано в книге Григория Марговского
"К вам с игрой - игрой игр" (издательство "Транзит-Икс",
Владимир, 2008, 160 стр., 60х84 1/16, тираж 1500 экз.,
ISBN 978-5-8311-0366-3).
Виктор Есиков (Вологда)
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ГРИГОРИЯ МАРГОВСКОГО
Странное чувство иногда посещает при знакомстве с творчеством, казалось
бы, совсем незнакомого поэта. Ловишь себя на мысли, что совсем недавно:
встречался с ним, слушал его, спорил с ним - соглашался и не очень, но
всегда признавал талант, мастерство ясно и живо излагать свою позицию.
При этом в стихах нет: ни позы, ни самолюбования, ни вычурности, ни озлобленности.
Но, вместе с тем, глубина мыслей: далека от упрощенности, избитости изложения,
очевидных рифм. Очень много необычных, парадоксальных сочетаний слов.
Например:
...Пока форсил и оперялся,
Порхая в росчерке ветвей...
...Святой порочности своей...
...Ерошили мой наглый пух...
Причем, часто такие перлы идут, как бы, гирляндами, создавая единый гармонический ряд:
...Я таял, позабыв про стыд...
...Зевал в смирительной рубахе...
...Теперь скольжу мокрей мокрицы
По острой кромке бытия...
Известное событие видится поэтом: полутонами, исподволь,
сквозь дымку, но через призму пережитого, личного и, далеко не постороннего
наблюдателя. Каждая строка живет непосредственным сопричастием.
Во "Франции" много исторических: лиц, событий, мест, и они очень
органично вписываются в ткань, в плетение стиха, и опять свежесть образного
изложения с неожиданными переходами. И автор всем своим существом находится
в самой гуще событий. И обращается из непосредственной близости:
О, Франция, языческая плоть,
Пронизанная сутенерской плотью...
Или сгусток:
...одна лишь топь, да тьма,
помойка цезарей, шакалья падаль…
Скажи такое неискушенному человеку из провинции Шампань,
он может и зарезать виноградным ножом.
А земля-то действительно многогранник, на одной из граней которого сейчас
живет Григорий, сменивший, по его словам, пару-тройку родин, и над которым
"так чисто небеса оштукатурены", - но при этом с горечью понимает,
что "возведенье Вавилонских башен - воистину сизифов труд".
Он с грустью осознает:
...и сам предвечный купол
изображаешь иногда.
А очередной вояж описывает так:
А над Атлантикой полет так долог,
И бабочка китового хвоста
Садится на воду...
Эти три строчки - законченное хокку! Чем больше вчитываешься, тем глубже погружаешься в личный мир талантливого поэта, тем ближе становится его творчество и укрепляется желание общаться, несмотря на разделяющее расстояние. Таков Григорий Марговский.
Опубликовано на "Сакансайте" (Москва, 2002
г.)
Феликс Гойхман (Рамле, Израиль)
БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
(рецензия на книгу стихов Григория Марговского "Мотылек пепла")
Итак, со времен появления на свет первых инкунабул до наших дней оттиснуто
столько книг
(целое печатное море), что ни один пожар уже не уничтожит этот книгоем.
Какая там Александрийская библиотека?
Странная мысль при издании нового сочинения, не правда ли? Но дело в том,
что сочинение сие называется "Мотылек пепла". Вот и вспомянулось
ненароком о пепелище. Но откуда мог припорхнуть к нам этот мотылек? Руины
пространства? Пожарище истории? Пепелище культуры? Речь, впрочем, идет
о книге Григория Марговского. "Мотылек пепла \ энная книга стихов
\ Тель-Авив, 1997" - скупо набрано на обложке цвета пустыни. Останавливает
слово "энная" в подзаголовке. Сколько их было у каждого из нас
- предыдущих книг, написанных, но не изданных, пережитых, но ненаписанных
- кому рассказать? Ведь книги стихов не пишутся, они складываются - как
песни, как судьбы. Поэтому выход в свет "энных книг стихов"
всегда горчит - это не возраст кокетки, это юбилей, устроенный для самого
себя.
Книга открывается серией самоаттестаций - это своеобразная привязка старого
лирического героя к новой местности, к новым условиям. И достоверность
тут достигается, порой, ценою немалой беспощадности к себе. Когда читаешь:
...в глазах твоих рысьих
пару-тройку вкрадчивых нот
различу - словно чтиц на сцене,
но и это мне не вернет
музыкального зренья, -
понимаешь, что тут - не декламация; тут - драма.
Воистину, кто из людей, сочиняющих литературу, не созидает свой собственный
мир? В этом; смысле мы, безусловно, являемся прозябателями разных миров
- братьями по разуму. Вот она, проблема контакта! Но ведь если мы не поймем
друг друга в этом вавилоне, то кто тогда нас поймет?!
Дальше в книге располагается венок сонетов. Как мне представляется, осевое
произведение книги. К слову, меня всегда восхищали сочинители венков сонетов.
Ведь данная конструкция, по определению, есть гигантская строфа, требующая
богатырской груди - для выдоха. Венок сонетов! Его легко сравнить с ловлей
жемчуга. А наш автор демонстрирует просто виртуозное умение нырять на
сотни стихотворных метров в поэтическую глубь. Более того, он оснащает
текст весьма частыми восклицаниями (я насчитал около сорока восклицательных
знаков: по-моему; не всегда оправданная потеря кислорода). Но что за "жемчуг"
поджидает автора в прорве? В распахнутых, навстречу ныряльщику створках
бликует и слезится "жемчужина" южного Тель-Авива. В венке, так
или иначе, представлено население этого славного района - его пролетариат.
И автор - "читатель окон" - "тень в окне", скорее
всего, тоже причастен к этому легендарному слою (родственные чувства?).
Впрочем, может быть, именно эти чувства невольного отторжения и сообщают
стихам такую эмоциональность и выразительность.
Переходя к одноактной пьесе "Батискаф космополита", замечу,
что образ ее главного героя несколько двоится. Во-первых, НЕфауст заключает
договор с чертом, о параграфах которого читателю следует догадаться, во-вторых,
неАВТОР реализует идеальную, в материальном смысле, возможность отчалить
из "отчизны ветхозаветной" на все четыре стороны.
Вторя половина книги представляет собой выборочное собрание стихов доизраильского
периода. Нельзя не заметить, что речь поэта была тогда более раскрепощенной,
что ли. Поэт был неизмеримо дальше от злобы дня, чем это можно наблюдать
сейчас. Правда, зачастую он вяз в нарочитой книжности, хотя и не чураясь
реальной жизни. Я имею в виду тематику произведений. В таких стихах как
"Белой шахматной ладьей...", "Остроумье приходит во время
сна...", "На электричке в Дубулты", "Что ты, море
Черное, бубнишь себе под пирс..." и во многих других стихах того
периода, Григорий Марговский достигал, как мне представляется, заветного
равновесия между лексической пластикой, реализмом и непременной книжностью.
Но увы, всякое положение вещей конечно. И уже трудно сказать, когда ТА
жизнь утратила для нас свой "вкус" и "запах": здесь,
в Израиле, или еще там, в нашей "нерушимой"? Во всяком случае,
именно "мотыльком пепла" ТОЙ нашей жизни является эта книга
для меня. Где они все: ЦДРИ и наш Литинститут с семинаром Винокурова вкупе,
о котором столь доходчиво пишет автор? Где многое, многое другое, о коем
почти каждый способен вдохновенно вспоминать часами? Мотыльком пепла порхает
между нами.
Но - шутки в сторону. Книга Григория Марговского - событие незаурядное
в русскоязычной художественной жизни Израиля. Вот он, на последней странице
стоит "на длинных нерусских ногах", заключенный, должно быть,
музой в полуобъятие: "сластотерпицей Эратой" - как, скорее всего,
выразился бы наш юбиляр, окажись он на моем месте.
Опубликовано в газете "24 часа" (Тель-Авив, 1997 г.)
Иудит Аграчева (Хайфа)
"УКРЕПЛЯЯ МЕЛОДИЕЙ ДУХ"
Образ Андрея Белого, явившись некстати, невовремя, без приглашения, не исчезал на протяжении всего разговора с Григорием Марговским. Спешные, неловкие мои попытки отвлечься от льющегося по телефонным проводам текста и нащупать хоть какую-то связь между двумя поэтическими и личностными мирами претерпевали крах.
К символизму поэзия Григория Марговского отношения не имеет. Едва проступающий его портрет на обложке изданной только что книги не обнаруживал ничего общего с золотокудрым солнечным мальчиком. Да и стихи Белого рождались и пребывают по сей день в принципиально ином измерении.
Но не отступали, о чем бы ни говорил Григорий Марговский, картины, предложенные Владиславом Ходасевичем в книге "Некрополь" (1939): счастливое возбуждение Белого в момент открытия им закона несовпадения метра и ритма; лишения и болезни, пережитые им в эпоху военного коммунизма; необычайно преувеличенный вес, придаваемый им антропософскому движению, которое будто бы могло оказать влияние на судьбы мира; ощущение собственной миссии; месть антропософам...
Вот, пожалуй, и весь ряд непрошеных ассоциаций. Интенсивность поэтического бытия, разрушительное переплетение литературы и жизни, порождающее минимальный процент гениев и максимальный - самоубийц, - весь этот забытый, далекий от Израиля мир, великолепно описанный Ходасевичем, и вклинился в разговор (как однажды в русскую литературу вклинилась, не растворяясь, русско-еврейская).
Не к месту как будто. Хотя именно место-то для "Некрополя" (как и место русско-еврейской литературы по отношению к русской) очень скоро и определилось. Литературный период начала века лег эпиграфом к завершающемуся роману о судьбах русскоязычной ("многонациональной", как говорили раньше) поэзии конца века, разбросанной по миру. Скорее, и не разбросанной, а нависшей над миром поэзии, разного, несравнимого уровня, но всегда пророческой и изначально жертвенной. Без эпиграфа сложно и муторно разбираться в который раз в болезненных, трепетных связях стихотворца с реальностью. Эпиграф избавит нас от наскучивших повторений и расчистит пространство для конкретного, живущего в Израиле поэта - Григория Марговского.
Ночь готическою готовальней
По брусчатке сомкнет эмпирей,
И чем купол мечети овальней -
Тем заточка часовни острей.
Черный флаг на краю волнореза
Опоясают сумрака рвы -
До утра сняв обеты с железа
Не купаться в кипящей крови.
Из фалафельных и ювелирен
К "мерседесам" потянется люд;
Марокканец, девически жирен,
Нам пропишет российский галут.
Вот и здесь не выносят нас на дух,
Старый Яффо убраться велит;
В затрапезных его колоннадах
Угнездился скрипач-инвалид.
На Крещатике прежде пиликал -
А теперь запрягает "Гоп-стоп"
Детворе, что под видом каникул
Зачастила в соседний секс-шоп.
Строчкогон из одной газетенки
Уж состряпал о том репортаж:
Дескать, вьется смычок его тонкий
Средь блошиных глухих распродаж…
Не способны газетные врезки
Ни осмыслить, ни выразить вслух -
Что такое страдать по-еврейски,
Укрепляя мелодией дух.
Рев толпы златоцепной нахрапист,
Резво шекели в лапах звенят, -
А старик, попадая в анапест,
Развлекает нахальных щенят.
Вдруг, поддев острием канцонету,
Улыбается он: се ля ви! -
И привносит в нелепицу эту
Просветленные "Муки любви".
Выплеск сердца - не с бухты-барахты:
Смерть - и та ведь красна на миру.
Да услышат прибрежные яхты
Стон расстрелянных в Бабьем Яру!
Так сыграй же им Крейслера, Брамса,
Горсть созвучий сквалыгам вручи -
И спасительным нимбом обрамься
В старояффской лотошной ночи!
- Я закончил Московский Литературный институт в 1990 году. Поступил - в 83-м, - рассказывает Григорий. - На два года меня забрали в армию, в ЖДВ - железнодорожные войска, предназначенные специально для инородцев. Таким образом, в 1984 году я оказался выбитым из из московского литературного процесса, что и определило во многом поэтическую судьбу. Когда я вернулся, умами владели концептуалисты. Фактически я отстал от моды. Наверное, навсегда. Но осталась какая-то тяга к модернизации стиха, однако наряду с соблюдением канонов и ориентацией на лучшие образцы. За семь лет беготни по Москве я получил отказ в семи издательствах. Отваги моей хватало даже на то, чтобы предложить свои рукописи "Современнику" и "Молодой гвардии". Отзыв, который я получил, был сформулирован так: "Судя по вашим стихам, русский язык не является для вас родным..." Сегодня, в пику тем господам, я готов выучить идиш, которым тогда, увы, не владел. В Москве в свое время я обратил внимание на то, что многим евреям, несмотря на пристальное внимание русских националистов к их участию в русском литературном процессе, удавалось просачиваться сквозь препоны. Мне кажется, это происходило благодаря тому, что собственно человеческие качества преуспевших еврейских литераторов были, как бы точнее сказать, - обтекаемы. А для антисемита особенно нестерпим был тип еврея, позволяющего себе не только писать на русском языке, но и держать при этом голову прямо. Я твердил про себя: "Давайте, продолжайте надо мной издеваться! Но когда я уеду в Израиль, у меня будет совершенно иная жизнь. И она будет вам укором".
Итак, оттарабанив две весны
Не где-нибудь - в почетном желдорбате,
Я не сумел стишата на Арбате
Толкнуть (о, мямля!) и за полцены.
По Лондону нашлявшись, пацаны
Едва кивали мне… Зато кровати -
Трах-тарарах! - скрипели так некстати,
Что поэтессы были польщены.
Мне ль жить, как маньеристы, куртуазясь,
Истаивая в телечехарде?
Иль харчеваться в Золотой Орде
Их черносотенной? - Иной оазис
Мое воображенье растравил:
Хочу любить, как любит Астрофил!
Ах, чьи это предплечья, мочки,
губы? -
Лжевожделением со всех сторон
Я, как плющом ползучим, оплетен…
Ужель и впрямь инкубы и суккубы
В постельном вурдалачестве сугубы?
Пиявки! Будто топкий Траханнон
Я вброд пересекаю… Но в полон
Не сдастся тот, кто метит в Звездолюбы!
О, вересковый тиходол, повей
Духмяностью друидовых церквей,
Заложенных дриадами на всхолмье!
Рассей средневековое безмолвье,
Открой мне ренессансные места,
Отстрой мой дух! I wish to meet a Star!..
- Отдельные мои публикации в Москве все же случались, - продолжает рассказ Григорий. - Однако истории, им сопутствующие, печальны. Виктор Куллэ, запланировав создание альманаха "Латинский квартал", попросил у меня стихи. Публиковались в альманахе в основном его друзья. Приглашенных было двое - Пригов и Еременко. Альманах готовился долго. Через год появился сигнальный экземпляр. Я об этом не знал. В Литинституте должна была состояться конференция по постмодернизму, на которой предполагалось провести и презентацию альманаха. Все авторы должны были выступить, рассказать коротко о себе, прочесть свои стихи. Буквально за полчаса до моего выступления мне попался в руки сигнальный экземпляр. Каждая публикация была сопровождена преамбулой Куллэ. Обо всех своих друзьях-собутыльниках он высказался с симпатией; о гостях - Пригове и Еременко - несколько в снобистском тоне, но глядя все же снизу вверх; а я оказался единственным человеком, которого он попытался облить грязью. Он написал о явном моем подражательстве... Вознесенскому! я поднялся и прилюдно залепил Куллэ этим альманахом по физиономии. Поскольку дело было в России, мой поступок восприняли как должное. Куллэ убрал свое предисловие... Собственно, если четыре года назад я приехал в Израиль без поэтического имени, то в этом вина моих нервов. как сказал Акутагава: "У меня нет совести, у меня есть слабые нервы".
Не поможет ни рев и ни визг нам
В запечатаной кровью клети:
Род людской из истории изгнан -
Дабы шерстию вновь обрасти!..
Вероломной ордой филистимлян
Заорудовал каменный век -
Окоем их кострами задымлен,
Саблезубый готовя набег.
Распаленные близкой добычей,
То их жадные очи огнят:
Люб им наш травоядный обычай
Подражать фатализму ягнят!
В этом приторном "салям-алейкум" -
Поскреб острых когтей у ворот.
Выйди, Б-г, и сразись с Амалеком -
Коли твой обезумел народ!
- Когда я приехал в Израиль. я не был настроен продолжать литературное существование, - признался Григорий Марговский, - хотя исписывал тетради стихами с двенадцати лет. Я трудился на черных работах, я осваивал язык - сегодня читаю и пишу на иврите свободно. К поэзии я вернулся около года назад. Мне вдруг настоятельно захотелось создать здесь, в пределах небольшого ближневосточного государства, пускай и утлое, но пространство для нефальшивого русского звука, сопряженного с опережающей историю еврейской мыслью. Это звучит несколько заносчиво, но я ощутил потребность внести свою лепту в предотвращение катастрофы израильского еврейства, которая мне, увы, видится. Книга стихов, изданная на мои собственные средства, называется "Мотылек пепла". Я и есть мотылек того самого пепла, в который было превращено восточноевропейское еврейство. Мотылек, долетевший сюда. Содержится в этом названии и еще более страшная символика, касающаяся уже не прошлого, а грядущего. Я молюсь, чтобы этого не случилось. А если, не дай Б-г, на нас двинутся жуткие силы, объединенные под знаком полумесяца, я готов сражаться. Без всякой патетики могу сказать: я готов во имя продолжения еврейской истории взять гранату и перекрыть дорогу вражескому танку. Мне будет легко это сделать. Лнгко, потому что уже увидела свет книга моих стихов "Мотылек пепла".
Опубликовано в тель-авивской газете "Вести", от 3 апреля 1997 г.

Иудит Аграчева (Хайфа)
"НА СКВОЗНЯКЕ ОБУГЛЕННЫХ СТОЛЕТИЙ"
Поэту Григорию Марговскому тридцать шесть лет. В Израиле недавно вышла вторая книга его стихов "Сквозняк столетий". (Первая книга, "Мотылек пепла", издана в Тель-Авиве в 1997 году). Некоторые из включенных в сборники стихотворений были ранее опубликованы в журналах "Юность", "СМена", "Студенческий меридиан", "Перспектива", "Литературное обозрение" (Москва), "The New Review" (Нью-Йорк), "Родник" (Минск), альманахах "День Поэзии", "Поэзия", "Истоки", "Латинский квартал" и других.
Сосредоточенность на глубоко личных переживаниях, доходящая до аутизма, маниакально трагическое восприятие мира, неприятие какой бы то ни было роли, навязываемой социумом, - все это свойственно лирическому герою Григория Марговского. В строках его стихов, однако, играют отблески завораживающего сияния. И похоже, путь к источнику света известен поэту, и похоже, холоден этот свет, и похоже, выбранный путь призывает поэта к отшельничеству и сиротству.
Безроден я, как пепла мотылек
На сквозняке обугленных столетий;
Меня преследуют то те, то эти -
Но я от этих и от тех далек.
Порою чудится: "Утихомирься,
Скитальческий умерь потенциал!
На гребне вдоволь ты потанцевал -
Пляши теперь в ошейнике у пирса…
Замкнутость виртуального пространства, в котором существует поэт, абсолютна. Даже утопическая счастливая планета Хэппиленд, на которую улетает герой поэмы (отчасти автобиографической поэмы, по признанию автора) "Батискаы космополита", находится как бы в пределах библиотеки, где только и способен материализоваться некий культурный миф.
Вполне серьезно. Ждет нас Хэппиленд -
Архипелаг пленительных легенд,
Чьи ритмы нежны, а герои чутки;
В историю той суши вкраплены
Мифологемы в виде инкрустаций,
И с демонами ангелы расстаться
Не мыслят там под запятой луны,
Что украшает необъятный эпос
Огнистых литер… Сколь ни прибедняй
Мерцанье их - они как ребятня
Вселенская: прелестна их нелепость!
Значительная часть поэтических произведений Григория Марговского сродни заклинаниям: отчаянным и ритуально оформленным попыткам подчинить - посредством магических слов - реальность литературе.
Сродни заклятию - и жизнеописание поэта, представленное им в процессе нашей беседы.
О детстве сказано было столь немного, будто его, детства, и вовсе не существовало. ("С двенадцати лет я заполнял тетради стихотворными текстами. Писал я везде - дома, на улице, в транспорте, в школе").
Слово "Израиль", мелькнувшее среди прочих ключевых слов, обозначило не страну, а скорее подмостки, на которых поэту предстоит отыграть перед не лучшей на свете публикой от начала и до конца "Божественную комедию" эмиграции. (Второй эмиграции, по признанию Григория Марговского. Первой была Москва).
- Я перебрался из Минска в Москву в 1983 году. Минск я, по тогдашнему острому ощущению, перерос. Там было всего лишь две из интересовавших меня литературных компании. Одну возглавлял Ким Хадеев - уникальнейший человек, мой духовный учитель, который в 49-м году призвал к убийству Сталина и, ведя образ жизни деклассированного элемента, зарабатывал на жизнь докторскими диссертациями. Вторая компания функционировала под председательством Алексея Шехтмана, известного среди поклонников бардовской песни. При том, что не печатали никого, при том, что все участники литературных собраний существовали в андеграунде, они страшно грызлись между собой. Будучи принятым и в той компании, и в другой, испытывая стыд за непрестанно муссировавшиеся склоки, я тогда уже ощущал себя эдаким "мотыльком пепла", чей неотвратимый жребий - быть развеянным "на сквозняке столетий".
Служил я в цирке, рабочим сцены, куда попал, вылетев со строительного факультета, где меня десять раз подряд умудрились не допустить к сдаче экзамена по сопромату. Преподаватель, листая эпюры, произнес сакраментальную фразу: "Вот выполните задание по-русски - тогда и приходите!.."
В один из критических моментов я решился отправить письмо со стихами литературному критику Владимиру Огневу. Я рассказал о себе, о том, что вынужден выбирать: раствориться ли в губительной атмосфере провинции или, вырвавшись из нее, познакомиться со своими столичными сверстниками, возможно, и несвободными от ксенофобии, но по крайней мере своюодными от литературной агорафобии. Огнев рекомендовал меня Евгению Винокурову, мои стихи приглянулись мэтру, так я попал в Литературный институт.
Первый курс - это было счастливое время: я писал много, как никогда. Но радость была недолгой...
Избранничество, как записку, скомкав,
Где почерк анонимный неразборчив,
Или, напротив, нарочито скорчив
Посмертную гримасу для потомков, -
Каким бы твой герой ни получался, -
Едины место действия и время:
На полустанке, наравне со всеми,
Он счастья ждал в теченье получаса.
В институте отсутствовала военная кафедра, и после первого курса я загремел в армию. На моих глазах люди гибли от аварий, от зверских драк, от жестоких побоев. Меня били тоже. Занимаясь укладкой шпал, я себя уговаривал, что отчасти они напоминают строфику классического стиха. "Это - женская рифма, - говорил я себе, - а это - мужская". И так ладил с армией.
Б-г пощадил меня, я вернулся живым.
В институте восстановился не без проблем. Винокуров после инсульта, к сожалению, впал в полный маразм и отказывался меня узнавать. Но ребята его уговорили. Я продолжил учебу - но вновь случилось несчастье: я неудачно женился, на поэтессе из нашего семинара. Ныне она достаточно известна, лауреат нескольких премий, автор толщенного тома стихов. Но с дочерью мне было запрещено видеться с тех пор, как я заявил, что мы не можем больше жить вместе. Именно в доме моей бывшей жены, задолго до моего отъезда, мне прокричали, что я оскверняю своим присутствием храм великой русской литературы, что, в силу моей порочной генетики, мне не позволено прикасаться к святая святых.
Собственно, я уже в армии понял, что живу в стране, где дружба народов вот-вот должна рвануть, как взбесившийся ядерный реактор... Но к концу восьмидесятых юдофобия в самой омерзительной форме выплеснулась на московские улицы. И не миновала Литинститут, который представлял собой прибежище для рабфаковского покроя самородков, мнившими себя новоявленными есениными и рубцовыми, которые, порвав на себе рубахи, добросовестно облевывали в нашем общежитии все коридоры и лестницы.
Я родился в семье военнослужащего, на себе испытал все тяготы советского убого быта, работал, служил - моя жизнь ничем не отличалась от жизни моих сверстников. Один мой дед всю жизнь проработал на кирпичном заводе, второй - был киевским фармацевтом. Стало обидно и странно, когда мне заявили, что именно я повинен во всем, что произошло с Россией: в расстреле священников, в расказачивании и т. д. Я ни в малейшей степени не считал себя ответственным за беды той страны, но вершители литературных судеб не тдопускали мои стихи к публикации. Я бывал у Тарковского, у Самойлова, у Искандера. Эти в высшей степени профессиональные литераторы, оценив мои тексты, пытались рекомендовать их издательствам и литературным редакциям. Увы...
По привычке, короткий задрав подбородок,
Я поправить хотел островков перекос.
Но на лодочной станции не было лодок -
И тогда я прочел расписанье стрекоз.
Камыши прошуршали немедленный вылет,
Стручковатые крылья издали щелчок…
Но привиделось мне, что они не осилят
Переноса души через тридевять строк.
Вторая эмиграция далась мне не легче первой. Я работал официантом в религиозных залах торжеств, работал охранником, долгое время жил один, и мне не с кем было перемолвиться словом.
Устроившись в тель-авивскую муниципальную библиотеку, я ощутил возвращение "авторского аппетита". Сквозь мрачный мираж болезни проступили контуры жизни. Я нашел в себе силы издать первый сборник стихов. Книга имела некий успех. У меня появились друзья - поэты, единомышленники. При Союзе писателей заработал литсеминар с имманентными такого рода сборищам ритуалами винопития и стихочтения. Я издал второй сборник стихов.
Теперь есть ощущение, что я высказался. Точнее так: если что-то со мной случится, по крайней мере останется материал, наработанный мною за тридцать шесть лет.
Щербатый мыс, плавучая коса:
Слегка очерчено кочевье...
Вот-вот я различу густые голоса -
И бездной от меня отступится бездневье!
"Какого августа, - настаиваю я, -
Какого августа, ответьте,
Обетованный ветер бытия
Меня прохватит сквозняком столетий?.."
Опубликовано в тель-авивской газете "Вести", от 15 апреля 1999 г.
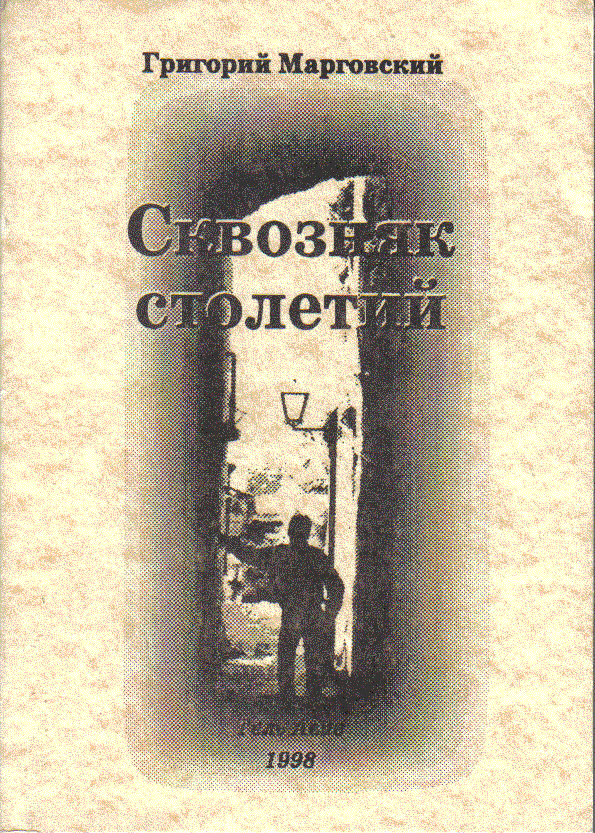
Игорь Зандер (Тель-Авив)
В ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА
Все произошло довольно буднично и банально. Как-то, на одной из художественных выставок, организованных "Авивом", председатель движения Александр Шапиро разговорился с известной поэтессой Ритой Бальминой. И оказалось, что у группы литераторов (среди которых члены Союза писателей и Союза журналистов) нет помещения для творческих встреч. И А.Шапиро, без долгих размышлений, предложил им просторную "авивскую" крышу.
Отныне, каждый последний четверг месяца, в центральной штаб-квартире движения будут происходить литературные встречи; поэты и прозаики представят друзьям и гостям свои новые произведения, поделятся планами на ближайшее будущее.
Первая такая встреча состоялась 24 июня. Любители изысканной руссской лирики могли познакомиться со стизами Григория Марговского, автора книг "Мотылек пепла" и "Сквозняк столетий". Впрочем, лучше всего о своем друге и его творчестве расскажет Рита Бальмина:
- Григорий Марговский - поэт тяжело раненный собственным остро-поэтическим восприятием действительности. И поэтому. где бы он ни жил, чем бы ни занимался, он всегда будет в конфликте, в оппозиции, в обиде. Так было в Минске, где он учился на строительном факультете, так было в Москве, где он окончил Литинститут им. Горького, так продолжается в Тель-Авиве, где, безукоризненно владея ивритом, Григорий и карьеры особой не построил, и не преуспел в обывательском смысле этого слова.
Зато он пишет стихи. На блистательном и богатом русском языке. Все противоречия и внутренние конфликты, все острые углы поэтического существования в нашем, таком далеком от поэзии, таком утилитарном и прозаическом современном мире, находят отражение в стихах, поэмах, пьесах и эссе Григория Марговского.
О себе он рассказывал, что поступление в Литинститут было для него возможностью вырваться из провинциальной литературной ситуации в Минске. В Литинституте он учился в семинаре Евгения Винокурова, по словам Гриши, совершенно равнодушного к судьбам учеников. Надутый сноб, он так говорил им: "Я взял вас в свой семинар только потому, что никто другой не сделал бы этого". В те времена, в конце 80-х, "кузницу писателей" уже захлестнула волна юдофобии и русского великодержавного шовинизма.
Несмотря на это, о литинститутском периоде Григорий вспоминает как о самых лучших (хотя при этом и самых страшных и тяжелых) годах своей жизни. Большую поддержку молодому поэту оказали такие мастера как Давид самойлов, Фазиль Искандер, Александр Кушнер. Григорий до сих пор состоит в переписке с некоторыми известными писателями, с которыми подружился в тот период. Занимался он и переводческой деятельностью: в частности, перевел книгу поэта Валери Петрова, которого по праву называют болгарским Пастернаком.
В своей поэзии Григорий Марговский так же лезет на рожон и стремится что называется "нарваться", как и в жизни. Его глубочайшая и обширная эрудиция дает ему возможность сражаться со всеми мыслимыми и немыслимыми, реальными и нафантазированными врагами. Мне кажется, что Г. Марговский - истинный поэтический Дон-Кихот нашего времени. а сколько раз он клятвенно обещал "завязать" с поэзией и вести жизнь добропорядочного обывателя. Не вышло. И новая поэма Григория Марговского "Илья Зерцалин" - тому вернейшее доказательство.
Полагаю, что все присутствовавшие на творческом вечере Григория Марговского получили истинное наслаждение от встречи с незаурядными стихами, от прикосновения к подлинному таланту.
Опубликовано в тель-авивской газете
"Новости недели", лето 2000 г.